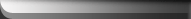Е.Д. Кускова — В. Л. Бурцеву
Прага, 29 сентября 1936 г.
Дорогой
Злец, Владимир Львович!
Я бы
тоже хотела с Вами здорово поругаться (на почве: "я — революционер... ”). Но в
то же время совместно вспомнить — без ругни, а с горячим сердцем — старое... Старое...
Вас. Дорогого мне Василия Яковлевича]...). И те времена, те времена, которые к большевизму привели
непосредственно и прямой дорогой. Нет, дорогой Злец, нам с С[ергеем] Н
[иколаевичем]) не место в Национ[альном] комитете. Хотите знать интимную
(только нашу причину)? сторону дела?) Да Вы, как исследователь русской революции, должны бы и
могли бы ее знать. Вот в чем она состоит. С самых юных лет и он, и я (14-ти лет
— в Саратове) попали в левые революционные кружки. И с этих же лет стали с
ними, с революционерами, бороться там, внутри их гнезд. Не знаю, кто в нас с
С[ергеем] Н [иколаевичем] всадил внутреннюю культуру. У него она еще понятна:
сын очень умной, очень культурной матери. А я, я росла беспризорная, в больших
тяжестях жизни из-за семейной трагедии матери и отца (отец застрелился). Но —
оба мы были влюблены в культуру, в знание, в честность познания, в мораль и в
прочие глупости, с теперешней точки зрения. И вот с этой-то вышки культуры, на
кот[орой] мы себя мнили, нам обоим революционная среда была глубоко противна.
Ложь, провокация, цель оправдывает средства, и — оазисы (только оазисы)
настоящего геройства. Мы ведь лично и глубоко, и хорошо знали многих
революционеров. Очень хорошо знали Плеханова, Чернова и прочих столпов двух
основных русских направлений. Прочтите переписку Плеханова... И Вы поймете,
почему мы выскочили оттуда, как ошпаренные. Не вскочили и в другое направление.
Там, по-моему, было еще хуже. Так и жили, неприкаянные, до Союза Освобождения.
Здесь среда была иная: можно было "делать революционное дело”, не боясь продать
черту душу, т. е. замараться какой-либо грязью от "партийной диктатуры”. Это
было единственное светлое пятно в нашей политической карьере: работали, как Вы
знаете, вовсю. В то же время, по своей жизни, мы хорошо знали политическую
жизнь, психологию этого класса даже в его высоких этажах, в
к[онституционно]-д[емократической] партии. Знали и русскую буржуазию. Пришли к
выводу: эта среда нам чужда по духу, по целям, по навыкам, по непониманию истинных
задач демократии. От этого пришли к другому решению: среда революционеров нам неизмеримо
ближе, несмотря на все ее отрицательные стороны. Если демосу русскому суждено
подняться и привести Россию к демократии, то эта среда сделает это, а не иная.
Пройдет она через грязь и через кровь. Но ведь и революционеры подполья
проходили через это: таков удел. Но мы все же останемся до конца жизни демократами
и с демократией. Это определило нашу позицию по отношению к белому движению и к
тому, что мы остались в России, не сгибая голов, каждую минуту эти головы
рискуя потерять. О грязи их поведения, совершенно не стесняясь, говорили и
Менжинскому, и Каменеву и другим б[ольшеви]кам того времени. Отказались
разговаривать (как кооператоры) с Лениным, когда он в 1921 г. хотел устроить
банкет со старыми общественными деятелями. Просили (жив В. М. Свердлов, через
кот[орого] шли переговоры) передать ему: банкеты мы будем совместно устраивать
тогда, когда выйдем из состояния рабов, рот которых завязан и кот[орые]
чувствуют себя пленниками диктатуры, т. е. когда рядом с нэпом будут возвращены
русскому народу свободы.
Да
многое можно было бы рассказать из этого кошмарного периода. Да вот нет времени
писать воспоминания. Одним словом: мы не приемлем эмиграционной среды, за
исключением крошечных участков она сплошь реакционна и сплошь мечтает о реставрации.
Пример — П. Б. Струве, когда-то бывший нашим другом, а теперь готовый идти с
немцами и японцами на Россию. А мы — душою с Россией, ею живем и в ней ищем
самоочищения. Ибо глубоко верим, что зараза большевизма сидела в самом народе,
а не только в его вождях. Глубоко также верим, что он самоочистится, уже
очищается, и сделает это глубже, прочнее, вернее — без помощи Национ [альных]
комитетов и в особенности "национально-фашистских” спасителей. А ведь что греха
таить: фашизму сочувствует большинство "национально-мыслящих”. С ними нам не по
пути. Останемся с демосом, хорошо видя все его гнойники, отвратительные язвы.
Но — с ним. И если будет малейший просвет, малейшая возможность работы там,
работы нашей всегдашней — культурной, государственной, кооперативной — мы будем
там. И на белом коне въехать туда не мечтаем. Мы — стары. Можем умереть тут,
все же революцию не проклиная: есть ведь "лучшие люди” ("я — революционер”), [которые]
шли к ней, хотели ее, звали ее и ждали ее. Она и пришла — в образе диком, иной
и быть не могла. Но мы уж будем с ней... Сами ведь немало потрудились для нее и
отрекаться от нее не хотим и не можем: околачиваясь все время то в подполье, то
около подполья, знали его хорошо, знали, куда шли, знали и то, что победа его
сразу счастья России не принесет. Народу нужно было по всему ходу вещей и по
преступности самодержавия через этот ад пройти и... все познать опытом,
очиститься для новой жизни. В эту новую жизнь верю, если подлецы из "Mein
Kampf” не схватят за горло выздоравливающего. А если схватят — поступим так же,
как когда-то поступили Вы, и иначе поступить не можем.
Вот
Вам краткая исповедь и отчет в нашем "большевизанстве”. Поверьте, его грязь
ненавидим не меньше, чем Вы. Но... Не верим, чтобы отмыть ее могли слезливые
прачки из "Национ[альных] союзов и комитетов”: не те руки.
Все.
С Россией поддерживаем крепкие связи. Еще кое-кто жив там и верит так же, как и
мы, в воскресение, в спадение чешуи большевизма.
Недавно
узнала, что обширный архив Вас[илия] Як[овлевича] "приобретен” Музеем
революции, где работает Бонч-Бруевич. Не думаю, что это тот архив (небольшой),
кот[орый] оставался у Эмил[ии] Венц[еславовны]). Очевидно, это архив, кот[орый] В[асилий] Я[ковлевич]
когда-то передал покойному Срезневскому). Как Вы думаете? Эмил[ия] Вен[цеславовна] написала воспоминания
о своем муже. Вряд ли они могут быть сейчас изданы. Сама она живет в Ленинграде
и завалена работой: дает уроки английского языка отдельным лицам и группам рабочих,
кот[орые] азартно учатся языкам. Этой работой она очень довольна. Душой же
живет, посещая Волкове кладбище, — душа ее прекрасная, детская — там.
С[ергей]
Н[иколаевич] написал огромную книгу о хозяйстве России с критикой политико-экономических
доктрин коммунизма. 45 печ [атных] листов. Ее должен был издать здешний
Славянский институт. Теперь этого — к горю нашему — сделать нельзя: страна
маленькая и ссориться с "Великой Россией” — не желает...)Французы и англичане тоже
предпочитают издавать Веббов, а не критику.
Будьте
здоровы, очень благодарю за письмо, за привет!
С[ергей]
Н[иколаевич] шлет Вам лучшие пожелания.
Крепко
жму Вашу руку.
Пред[анная]
Вам Ек[атерина] Прокоп [ович]
Можно
же ставить такую печать, на кот[орой] немыслимо прочесть адрес!! 18 или 13?
Читаю по догадке.
Г
АРФ, ф. 5802, on. 1, д. 356. —Автограф.